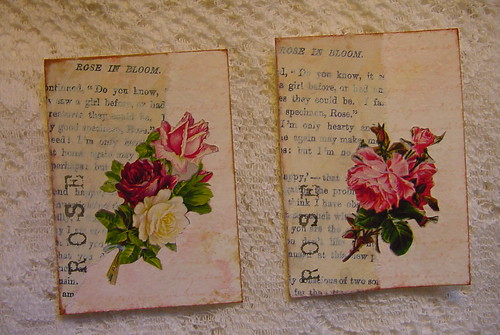docs.google.com/Doc?docid=0AZ0dhvryvwgBZGR3dG44...
Авторы "Истории чтения..." исследовали сабж, начав со времён древних Греции и Рима. Мне это малоинтересно. Поэтому особое внимание я уделил материалу от времени гуманистов, когда чтение начало превращаться в то, чем оно собственно и есть сейчас, - до наших дней.
#1.
Спасение классических произведений
Гуманисты внесли глубокие перемены в практику чтения, причём придерживаясь одного направления. Учёные средних веков читали одинаковым образом канонические авторитетные тексты: Аристотеля и его комментаторов, важнейшие тексты по праву, медицине и богословию, Вульгату, "Метаморфозы" Овидия и "Утешение философией" Боэция. Хотя то были книги разного происхождения и содержания, средневековые читатели видели в них единую систему. В связи с этим они толковали эти тексты не как произведения конкретных людей, каждый из которых жил в своё время и в своём месте, а просто как безличный свод доводов.
Но, на взгляд гуманистов, всё предприятие покоилось на фундаментальной ошибке: комментаторы стремились не объяснить тексты сами по себе, а перенести их содержание в свою эпоху. Например, там, где "Свод гражданского права" говорит о жрецах простых и высших, комментатор Аккурсий думает, что речь идёт о священниках и епископах христианской церкви, известной ему, и усматривает в древнем тексте основополагающую хартию для современной практики. Иначе говоря, тексты эти читали не потому, что те говорили о древнем мире, а потому, что отвечали современным потребностям. Весьма густая сеть гипотез и утверждений, воплощённая в системе комментариев и сопутствующих трудов, связывала древние книги не со временем и местом возникновения текстов, а с выгодой текущей эпохи.
С самого начала гуманизм был попыткой спасти классические произведения, заточенные в "затворённом вертограде" с остроконечными зубцами на стенах, куда их поместили средневековые комментаторы. Потребность преодолеть заслон, поставленный средневековым критическим аппаратом между текстом и читателем, была общим местом гуманистической полемики до самого 16 века.
А что же происходит в 21 веке? Как, например, толкуют труды Маркса? В качестве произведений конкретного человека, жившего в своё время и в своём месте? Или как безличный свод доводов? Читают, потому что его тексты говорят о его мире? Или потому что отвечают современным потребностям?
По сути, сейчас происходит ровно то же самое, что происходило во времена гуманистов. Тогда необходимо было вернуть лицо классическим произведениям, освободить их из рабства у выгоды текущей эпохи - и сейчас необходимо проделать ту же процедуру с произведениями новых классиков. Ведь это не безличный свод доводов, а книги конкретных людей, конкретных мест и конкретного времени.
#2.
Кто, кроме меня, любит писать в книгах?
Попробуйте-как сейчас ручкой сделать пометку на полях какого-нибудь свежеизданного серьёзного толстого труда в твёрдой обложке. Увидит любой приличный человек - отругает. Мол, в книгах писать - всё равно что в церкви плевать.
Между тем, ранее было привычкой писать на полях текстов. Этим промышляли Петрарка, Монтень, Скалигер и многие другие. Гуманисты превращали свои книги в ценный источник по собственной интеллектуальной биографии и истории кружков, в которых он умственно рос. То, что пометы делались очень разборчивым и изящным почерком, показывает, что владельцы считали эти пометы достойными постоянного употребления. Когда такие люди, как Гарвей, собирали целые библиотеки аннотированных таким образом экземпляров, они, возможно, имели в виду не опубликовать когда-либо свои заметки, а создать справочный корпус для всех членов интеллектуального кружка.
#3.
Исторические параллели
Церковники и власть имущие консерваторы не зря боятся интернета. Эти регрессоры помнят, в отличие от многих современных реформаторов, что Реформация была дочерью Гутенберга, и понимают, что любая новая реформация может явиться в мир только как дитя интернета. Если бы отец наш Лютер знал, что однажды появится интернет, он бы не спешил высказываться о книгопечатании так: "Книгопечатание - последний дар божий и величайший. В самом деле, через него бог хочет, чтобы дело истинной веры стало известно по всей земле до пределов мира". Как ни крути, но по всей земле до пределов мира - это слова об интернете, так что, книгопечатание было, как минимум, предпоследним даром бога в деле распространения истинной веры.
А что же наши с вами блоги? Все эти жжшные войны? А что же сливы на бесконечных сайтах?
Вероятно, убеждение в чрезвычайной важности печатной книги при распространении протестантизма происходит от "войны памфлетов". Вскоре после того как Лютер возмутился против насаждения индульгенций, в Германии началась широкая "агитационная кампания", продолжавшаяся с 1520 по 1525 годы. Тысячи памфлетов - брошюрок из нескольких листков в четвёрку - ходили по всей Империи. Все новые вопросы, поднятые Реформацией, обсуждались в этих наспех написанных, плохо построенных, невнятных и велеречивых листовках. Часто одни и те же тексты в форме проповедей, диалогов или писем воспроизводились в разных городах. Фактически речь идёт о первом использовании печатного слова для воздействия на общественное мнение. Это половодье мелких изданий (по-немецки очень выразительно называемых "летучими") быстро сделало имя и дело Лютера известными не только в Германии, но и во всей Европе.
Так вот, война в интернете - это всё равно что война памфлетов. Причём противодействовать войне в интернете власть имущие пытаются с той же глубинной глупостью, как и их коллеги противодействовали войне памфлетов. Например, Ордонанс города Лаон от 1565 года дал замечательный пример страха перед еретической книгой. Он потребовал затыкать все выходящие на улицу отдушины в домах, потому что посланцы из Женевы по ночам подбрасывали брошюрки в подвалы.
#4.
Частично это сводится к деньгам
Неплохо подумать об экономических последствиях борьбы отца нашего Лютера и его идей. Лютер изменил экономическое положение Виттенберга. В 1517 году в этом университетском городке была лишь одна совершенно провинциальная типография. Через несколько лет прессов для распространения потока сочинений реформатора в городе стало столько, что он вошёл в число шести-семи крупнейших типографских центров Германии.
Нечто подобное произошло и в Женеве после того, как там была провозглашена Реформация, и обосновался Кальвин. С 1537 по 1550 года рост оставался ещё небольшим, но затем город, имевший 12 тысяч жителей, стал принимать всё больше и больше печатников, наводняя Францию и другие соседние страны реформатскими изданиями. Идеологическая мотивация этих печатников поддерживалась и материальными интересами. Архивы города сохранили отголоски многочисленных конфликтов, вызванных жестокой конкуренцией: в 1550-1562 годах печатание реформатских книг в Женеве было источником серьёзных доходов.
В 16 веке любая религиозная группа нуждалась в доступе к печатному станку. Это доказывает политика диссидентских сект в центральной Европе. Польские и венгерские антитринитарии, чешские чашники, моравское братство - все считали необходимым обладать печатью, чтобы обеспечить свою религиозную идентичность. Типографии служили как внутренним потребностям, издавая богослужебную, катехическую и духовную литературу, так и печатая контрпропагандистские книжки против других конфессий.
Это всё сильно отличается от ситуации с экономическими последствиями развития интернета. Если Реформация посредством книгопечатания обретала экономическую опору (ну, конечно, вдобавок к другим экономическим опорам), то новая реформация посредством интернета не способна обрести экономическую опору, строго говоря, за серверами в другой город тысячи людей не поедут.
#5.
Убил дракона? Превращайся в дракона
Как и все порядочные реформаторы, деятели Реформации во главе с отцом нашим Лютером, сломав цензуру, установили свою цензуру. Сломав догму, создали питательную среду для возникновения новой догмы.
Лютер жаловался на изобилие бесполезных и даже вредных книг. Около 1520 года он писал в "Манифесте к христианскому дворянству германской нации": "Что же до богословских книг, надо было бы уменьшить их число и выбрать лучшие. Не стоит впредь читать много, но читать доброе и читать часто, как бы мало доброго ни было. Вот что делает сведущим в священном писании и вместе с тем благочестивым".
Конечно, протестанты выдвинули тезис scriptura sola, но его не надо понимать как "написанное и только написанное". Этот принцип, требовавший обоснования богословских позиций священным писанием, позволял отбросить человеческие предания, не подтверждённые "Библией". Тут нет ничего общего со свободным исследованием, появившимся в либеральном протестантизме только в 18 веке.
В 1529 году, закончив оба свои катехизиса, Лютер настаивает на необходимости каждому дать эти руководства: "Катехизис - "Библия" мирянина; в нём есть всё, что каждый мирянин должен знать о христианском учении". Его концепция образования подтверждает это воззрение. Для Лютера задача школы не в том, чтобы всем дать доступ к культуре. Функция школы - создать образованную элиту, которая сможет руководить и гражданским, и церковным обществом. Точно так же в 1524 году, призывая магистраты создавать хорошие библиотеки, Лютер ставит перед ними две цели: сохранить книги и способствовать обучению духовных и светских лидеров. О народном чтении речи нет.
#6.
Кому из людей может доверять регрессор?
В чём состоит мечта любого современного ограничителя интернета? Ну, имеются в виду не слишком глупые ограничители, то есть не те, кто желает запретить интернет вовсе.
Мечта сия состоит в том, чтобы доступ к интернету происходил по дозволению или в зависимости от статуса. Например, после согласия специальной комиссии сделать тот или иной материал публичным; в результате профессиональной необходимости ознакомиться с тем или иным материалом; в результате обладания званием, разрешающим что угодно на этом свете, а также, возможно, и на том; по достижению определённого возраста.
Точно так же власть имущие 16 века регулировали доступ к книгам. Так, Генрих 8 очень долго вообще запрещал распространение "Библии" на английском языке. В 1543 году он, наконец, уступил давлению своего окружения. Но обставил разрешение печатать английскую "Библию" весьма показательными ограничениями.
Король установил три способа чтения для трёх категорий лиц. Люди знатные и благородные могли читать писание по-английски и даже зачитывать его вслух как для себя, так и для всех, проживающих под их кровлей. Довольно присутствия одного дворянина, чтобы доступ к писанию был свободен. На другом конце социальной лестницы - те, кому чтение английской "Библии" запрещено совершенно: женщины, ремесленники, ученики и подмастерья на службе у лиц, равных по состоянию мелким землевладельцам, земледельцам и разнорабочим. Находящиеся посередине между этими категориями, собственно буржуазия и благородные женщины, "могут читать любые книги "Ветхого завета" и "Нового завета" про себя и никому более". Таким образом, эта средняя категория достаточно компетентна сама, чтобы не соблазниться, но недостаточно авторитетна, чтобы утвердить своё мнение для окружающих.
Римские власти не отставали от последователей Реформации. "Индекс запрещённых книг", завершение которого было доверено папе Пию 4, вышел в свет в марте 1564 года. Он открывался точными правилами дозволенного пользования переводами Библии. Два основных условия вводились четвёртым правилом: чтение разрешалось исключительно лицам, получившим письменное разрешение епископа или инквизитора, выдававшееся "по совету с приходским священником или духовным отцом". В любом случае, разрешение могло быть дано исключительно людям "учёным и богобоязненным", "что могут извлечь из этого чтения не ущерб, но некое приращение для веры и благочестия".
Вот и сейчас доступ к интернету регрессоры пытаются оставить лишь лицам властебоязненным и не столько учёным, сколько согласным с логикой жизни в том или ином обществе.
#7.
Всё глубже, чем кажется
Смертельный удар королевскому правлению в Франции в 18 веке нанёс кто? Якобинцы? Впечатать бы в лоб всем нынешним революционерам: смертельный удар королевскому правлению нанесли читатели. Революция совершилась не волнениями и казнями, а чтением.
В метрополии Франции можно было наблюдать такие сцены: "В Париже все читали. Все - и особенно женщины - носили при себе книги. Читали в экипаже во время прогулки, в театре - во время антракта, в кафе, в купальне. В лавках женщины, дети, компаньоны, ученики - все читали. По воскресеньям люди читали, устроившись перед дверьми своих домов, лакеи - на задних сиденьях экипажей, кучера - на своих традиционных местах, солдаты - во время несения караула". Несколькими годами позже Германия (здесь и далее по тексту название страны "Германия" обозначает не политическое или территориальное, а культурное и языковое пространство) также была полностью охвачена этой культурной революцией.
Действительно, казалось, что революция чтения нигде больше не достигала такого размаха и динамики, как в центральной Европе, по которой дотоле неизвестная "болезнь" быстро распространялась. В 1796 году священнослужитель Иоганн Рудольф Бейер описал её главные признаки: "Читатели и читательницы вставали и ложились с книгой в руках, не выпускали её из рук за столом, клали рядом с выполняемой работой, брали с собой на прогулку, не в силах оторваться от чтения. Не успев дочитать одну книгу, они уже брались за другую. Как только они проглядывали последнюю страницу очередной книги, так сразу же жадно начинали оглядываться в поисках новой. Заметив хоть что-то, что могло занять место на их книжной полке или быть прочитано на туалетном столике, на пюпитре или где-либо ещё, они овладевали этим и страстно начинали читать. Ни один курильщик, ни один любитель кофе или вина, ни один игрок не могли в такой степени быть привязанными к своей трубке, чашке кофе, бутылке вина, игральному столу, как эти, жадные до чтения люди, - к своему чтению".
Этой болезни, которой современники поставили правильный диагноз, правда, не зная, как её лечить, - учёные-исследователи нашего времени дали название "революция чтения", основываясь на модели, объясняющей это изменение в светском обществе как революционный переход от "интенсивного чтения" к "экстенсивному чтению". На основе источников из протестантской северной и центральной Германии Рольф Энгельзинг описал процесс, в ходе которого в 18 веке интенсивное и повторяющееся чтение маленькими частями знакомых текстов (как правило, религиозных и особенно "Библии"), воспроизводившихся, комментировавшихся и остававшихся неизменными на протяжении жизни, - переросло в современное экстенсивное чтение светских новых и разнообразных текстов.
Так что, великая французская революция - это, прежде всего, великая революция чтения. Буржуазная идентичность формировалась с появлением нового, не зависившего от аристократии общественного мнения, которое "как общий результат мнений частных лиц, образующих сообщество", было направлено против удерживаемой государственными властями и Церковью монополии на информацию и её интерпретацию, способствовало внедрению в жизнь новых антифеодальных структур коммуникации и обмена сначала в области литературы, а затем - политики. Ничто, по сравнению с печатным словом, не могло лучше выполнить эту коммуникационную функцию.
Письменная культура и литература стали экспериментальными полями для самовыражения и анализа. Таким образом, книга и чтение приобрели новое значение в общественном сознании. В сложившихся условиях, когда буржуазия стала располагать временем для чтения и возможностью приобретать достаточное количество книг, чтение превратилось в социальную действующую силу, способствующую обретению независимости. Оно расширяло нравственные и художественные горизонты, преобразуя читателя в гражданина, полезного для общества, помогая ему лучше осознавать свои обязанности и роль в обществе. Печатное слово стало движущей силой буржуазной культуры.
#8.
С мечтой о Стокгольме
В бывшем СССР распространена особая любовь к Швеции и желание жить "как в Швеции". Некоторые лица даже призывают кое-что повторять из шведской политической практики, чтобы жить лучше. Что ж, кроме религиозных, географических отличий есть ещё отличие в чтении. С конца 18 века большинство населения Швеции грамотно. У нас тут всеобщая грамотность ещё век не пережила, а там уже третий живёт.
#9.
Стихия чтения
Помню, во дни оранжевой революции многие носились с распечатками заметок на форумах, сайтах. Делились этими распечатками, обсуждали потом. Чего стоили только дискуссии в барах, особенно в тех, где постоянно были какие-нибудь иностранцы или представители диаспоры. Теперь то ношение с распечатками вспоминают с улыбкой как нечто невиданно-романтическое. Так вот, конечно, нет ничего нового под Луной, и когда чтение делало революцию, неграмотные люди не могли остаться в стороне. И не остались. Как не остались в стороне те, кто не посещал оранжево-революционные форумы и сайты.
В сложившемся укладе жизни сельского населения 18 века, от слуги до зажиточного крестьянина, умение читать (и к тому же свободно) воспринималось как излишество: достаточно основных навыков, чтобы разбирать инструкции по кровопусканию, поговорки о погоде и времени посева, а также популярные религиозные и мирские издания, распространявшиеся на рынках и торгующими вразнос.
Однако это "дикое" чтение могло развиваться параллельно с групповым. Речь идёт о "пассивном" чтении, когда вслух читал кто-то другой. В этом случае, быть грамотным необязательно. Например, в семьях религиозные тексты читали или отцы семейства, или дети, а в общественных местах – на рынках, постоялых двора – любой, кто умел. Это способствовало распространению политических и других новостей. В конце 18 века большие усилия, которые прилагали просвещённые умы по преобразованию распространённого среди сельского населения "дикого" чтения в "полезное" путём авторитарного руководства им, в целом завершились неудачей.
Потрясения, связанные с французской революцией, сильно изменили положение дел. Даже деревенские жители стали проявлять интерес к сенсационным новостям, в которых говорилось о свободе, равенстве и братстве. Адвокаты, занимавшие невысокие должности, учителя, студенты, священники-реформаторы, содержатели постоялых дворов, почтмейстеры - читали вслух газеты, вовлекая слушателей в бурные споры. Всё это побуждало людей самостоятельно учиться читать (контроль за общественным мнением со стороны власть предержащих в целях противостояния революционным настроениям в массах оказывал то же воздействие).
(Кстати, "дикому" чтению тогда же стало противостоять чтение "эрудированное". Среди интеллектуальной элиты было распространено не только беглое поверхностное, "новое" чтение, но и появившееся в 17 веке экстенсивное чтение энциклопедического характера. Однако в середине 18 века эрудит, проводивший жизнь, уткнувшись в книги, забыв про всё на свете, становится объектом насмешек. Его книжные знания, упорно противопоставлявшиеся любому проявлению прагматизма, противоречили буржуазному мировоззрению эпохи Просвещения. На смену педантичному и важному кабинетному мыслителю пришёл эрудированный и энергичный "денди", чьи отношения с науками были скорее поверхностными).
#10.
Запрети - и все всё достанут
Конец 18 века показал западной Европе, что такое светлая сторона запретов. Долго запрещая любую антирелигиозную литературу, власть имущие добились того, что не только католики-эрудиты, но и более широкий круг верующих католиков очень быстро приобщился к чтению светских изданий, правда, по сравнению с протестантами, - на два или три десятилетия позже. Освобождаясь при этом радикальным образом от церковного влияния. Ничто больше так не желалось, не печаталось, не читалось, не продавалось, не рекомендовалось, как издания, в которых дискредитировалась религия. Они переходили из рук в руки, их переиздавали. Тираж некоторых из них исчерпывался через три месяца. Обычные школы, где учили читать, и свобода печати способствовали тому, что любой мог читать всякого рода измышления, которые могли публиковать эти "пишущие маньяки". Были даже общедоступные школы, в которых преподаватели рекомендовали подобные материалы своим ученикам и зачитывали отрывки из них вслух. Девушки приносили их с собой в церковь. Мальчики, которые ещё только учили правила грамматики, знали о них. Священники выставляли эти издания напоказ, расставляя их поверх своих книжных шкафов.
#11.
Первые бестселлеры
Концепция чтения эпохи Просвещения при решающем значении социальной составляющей в сфере культуры претерпела изменения в своём развитии, особенно начиная с 1770 года. Быстро освобождаясь от противоречий, свойственных рационализму, от его академизма, критериев восприятия и авторитарного руководства, в этой сфере всё большее значение приобретают эмоциональные и индивидуальные факторы. Они обозначили новый, особо сложный этап исторического развития чтения, длившийся в течение нескольких десятилетий, для которого было характерно "сентиментальное" или "эмфатическое" чтение. Чтение, в котором индивидуальная страсть читающего, изолировавшая его от окружающей действительности и общества, сочеталась с жаждой общения и сопричастности через обращение к чтению.
Особенно горячий приём у женщин встретил роман "Памела". В нём Ричардсон с небывалой доселе точностью описал специфический женский мир - шла ли речь о подробностях ведения домашнего хозяйства или интимных любовных отношениях. Роман был написан в эпистолярном жанре, что свидетельствовало о преобладании субъективного восприятия событий его героями. Всё это способствовало тому, что "Памела" стала произведением, которое "могло быть одновременно положительно оценено Церковью и подвергнуто осуждению как порнографическое. Оно могло нравиться читателям, производя на них двойное притягательное воздействие: воздействие проповеди и воздействие стриптиза".
Как об этом свидетельствует "Похвала Ричардсону" Дидро (1761), во Франции этот роман также нашёл широкий отклик у читателей. Но только благодаря Руссо пожар, разгоревшийся из-за этой книги, стал распространяться как по пороховому приводу. Руссо хотел с помощью литературы проникнуть в суть жизни, своей и своих читателей. А его читали, со своей стороны, стремились к чтению подобной литературы не для того, чтобы испытать удовольствие от чтения художественного произведения, а для того, чтобы лучше познать жизнь, особенно семейную, что в точности соответствовало воззрениям Руссо.
"Новая Элоиза" (1761), издававшаяся не менее 70 раз до 1800 года, - самый лучший бестселлер периода королевского правления, - производила на своих читателей неисчислимые сильные воздействия, включая приступы истерики и состояния крайней подавленности (депрессии). Робер Дарнтон подчёркивает, что "мы почти не можем себе представить" эту страсть к чтению. "Она нам кажется такой же странной, как страх балийцев перед демонами", или ещё проще – как юношеский экстаз на концерте поп-музыки.
#12.
Первые самоубийства под влиянием книг
В 1774 году широчайший читательский резонанс получила книга Гёте "Страдания молодого Вертера". Но в отличие от Руссо Гёте не придавал никакого значения установлению хоть какой-то близости с читателями. Что не помешало части в основном молодых читателей увидеть в этой трагической любовной истории, в которой светская буржуазная мораль уже больше не пропагандировалась и даже разоблачалась, не только художественный вымысел, но и приглашение к подражанию в духе прежней традиции создания "полезных" поучительных текстов. К сожалению, фатальным следствием неверно понятого содержания романа стала прокатившаяся среди читателей "Вертера" волна самоубийств. Однако подавляющая часть читающей публики ограничилась внешними признаками подражания герою, превратив его манеру одеваться (голубой сюртук и жёлтые брюки) в символ мятежной юности и покупая ставшие культовыми предметы, такие, например, как знаменитая чашка Вертера.
#13.
Романы изменили досуг, а их чтение было названо болезнью
Занятие чтением, считающееся относительно новым культурным явлением, стало неотъемлемой частью повседневной жизни буржуазной семьи. До этого только эрудиты с наступлением ночи корпели над книгами. Теперь же вечера и ночи и для любителей литературы стали временем проведения досуга, включая чтение книг. Это свидетельствует об изменении восприятия времени в буржуазной среде.
И к чему это привело? Как сейчас регрессоры сеют хулу на интернет, так тогда сеяли хулу на чтение романов: "Видно невооружённым взглядом, как убивают свободу мысли и свободу печати. Чтение в той степени, в какой оно разжигает и даёт волю воображению, удаляет читателя от реальных чувственных ощущений и восприятия окружающей действительности с риском доведения его до состояния полного разочарования в жизни, вплоть до нигилизма". Женщинам, увлекающимся романами, ставился в упрёк уход в мир бездействия и сентиментальных наслаждений как раз в то время, когда буржуазное общество и семья возложили на них новые важные задачи. Регрессоры также выражали недовольство тем, что романы возбуждают воображение, вредят морали и отвращают от труда. Иммануил Кант прямо заявлял: "Чтение романов, наряду со многими другими умственными расстройствами, приводит к тому, что развлечение становится обычным занятием".
#14.
Романы, женские
Для издателей эпохи Реставрации (1815-183) женщина была, прежде всего, читательницей романов. Верде в Париже предлагал читательницам "собрание лучших французских романов, посвящённых женщинам", а Стелла в Милане - романы "для дам благородного происхождения". Такие заверения демонстрировали респектабельность, стремление завоевать как покупателей мужчин, так и женщин, которые в предлагаемых изданиях не найдут ничего, что могло бы оскорбить их деликатные чувства. Эти издания нашли собственную нишу на книжном рынке, что способствовало зарождению женской субкультуры. Но вопреки ожиданиям объём продаж падал, и в 1830-е годы их выпуск был прекращён. И тем не менее, эти собрания, о которых больше говорит состав их читателей, чем содержательное наполнение, были настоящим новшеством для общества того времени.
Стендаль в своих письмах подчёркивал значение для творчества романиста, особенно в провинции, внимания читательниц: "В провинции совсем немного женщин, которые прочитывают по пять или шесть томов в месяц; многие читают по пятнадцать или двадцать; и вы не найдёте маленького городка, в котором не было бы двух или трёх кабинетов чтения". Если горничные, сообщает он, читали произведения таких авторов, как Поль де Кок, издававшиеся форматом в одну двенадцатую печатного листа, то завсегдатайницы салонов предпочитали более солидные издания в формате ин-октавио, указывавшем, к тому же, и на более качественную литературу.
Несмотря на то что читательницами романов были не только женщины, выпускавшие их издатели ориентировались, прежде всего, на читательниц, особенно когда речь шла о популярных и сентиментальных романах. Явное преобладание женщин среди читателей романов, казалось, подтверждало бытовавшее предубеждение о роли женщины в обществе и её интеллекте. На этом основании роман относили к женской литературе, потому что в женщинах видели интеллектуально ограниченных, фривольных созданий, полных фантазий и одновременно находящихся в плену у своих переживаний. Роман противопоставлялся образовательной литературе, так как предъявлял невысокие требования к своим читателям, а его предназначение заключалось в развлечении тех, у кого было много свободного времени. А главное - он уводил в царство грёз. Мужским чтением считались газеты, отчёты о событиях, происходивших в обществе. Романы же, в которых описывался, главным образом, внутренний мир, больше воссоздавали частную жизнь, которой был ограничен мир представительниц буржуазных семей 19 века.
Чтение романов женщинами было небезопасно для мужей и отцов буржуазных семейств, так как могло возбудить нежелательные страсти, экзальтировать женское воображение. Оно могло стать причиной неразумных сентиментальных ожиданий, возникновения эротических эмоций, что угрожало нравственной чистоте и порядочности нравов. Таким образом, роман 19 века ассоциировался с большим соответствием женской натуре, с чертами иррациональности в её характере. Не случайно супружеская неверность стала одной из основных тем романов и причин воссоздания образов их героинь от Эммы Бовари до Анны Карениной и Эффи Брист.
Чтение играло важную роль в общении женщин. В то время как мужчины в кафе и кабаре с газетами в руках говорили о политике, женщины постоянно обменивались романами и книгами прикладного характера, полезными в хозяйстве. Писатель - житель Бордо - отмечал в 1850 году: "Сегодня общество разделено на две большие части: одну представляют мужчины, которые играют и курят, другую - женщины и девушки, чья жизнь проходит за чтением романов и музицированием".
#15.
Навязывание догмы о рациональном
Часто приходится слышать сетования регрессоров на то, что интернет забит всякой похабщиной, бессмыслицей, да и вообще является свалкой. Что ж, мысль не нова. Точно такую же мысль регрессоры прошлых веков высказывали о романах.
Современники, поднимавшие голоса против пагубной страсти к чтению, выступали и против абонементных библиотек как главных очагов этого порока. Их называли "борделями и местами полной утраты нравственности и морали", которые распространяли свой "духовный мышьяк" среди знатных и обездоленных, молодых и старых.
Всё чаще и настойчивее, особенно после французской революции, стали раздаваться призывы к установлению надзора за этими "местами гибели морали". К 1800 году в государствах с населением, говорившим на немецком языке, абонементные библиотеки были или строго запрещены (например, в Австрии они были закрыты в период с 1799 по 1811 годы), или подвергнуты строгому контролю (например, в Пруссии указом Вёльнера от 1788 года, в Баварии указом от 1803 года).
Как и интернет сейчас, чтение тогда стало обычным занятием подобно любому другому, в зависимости от обстоятельств и ситуации ориентированное на развитие культуры и информации или, наоборот, рассматриваемое как последний оплот, противостоящий внешнему миру. Клубы чтения сначала служили для обсуждения социальных проблем, а потом стали местом встреч и общения. Некоторые из них преобразовались в ассоциации знатных особ, просуществовав в этом качестве весь 19 век, а отдельные даже сохранились до наших дней.
Но настал момент, когда развитие чтения смешало карты и регрессорам, и просветителям. Буржуазные рационалисты полагали, что пусть спасения имманентной и трансцендентной точек зрения пролегает через чтение. Их ярая пропаганда полезного чтения познакомила поднимающуюся буржуазию с этим культурным занятием как с оригинальным видом коммуникации. Их противники - приверженцы традиций - выступали против чтения с не меньшей запальчивостью, потому что в их глазах чтение было равнозначно первородному греху: тот, кто читал, вкушал плод с запретного древа познания.
За несколько десятилетий эти две тенденции полностью исчерпали себя. Массовое воспитание чтением потеряло свою актуальность, так как с 1800 года публика стала разнородной, разобщённой и, что называется, неизвестной. Одним словом - современной. Читатели уже больше не читали то, что им рекомендовали власть предержащие или идеологи. Они предпочитали чтение, которое удовлетворяло именно их конкретные потребности: в эмоциональном, интеллектуальном, общественном и личном планах.
#16.
Цензура деточек ради
Фильтры интернета, ограждающие детей от всего "лишнего", берут своё начало в фильтрах литературы, ограждавших детей также от всего "лишнего", только по меркам эпохи после революции чтения. Яркий пример фильтра - братья Гримм.
Начало развития детской литературы было связано с любовью детей к волшебству. В романтическом 19 веке народные сказки, возникшие в среде крестьян, получили название "волшебные сказки", чтобы подчеркнуть их принадлежность к детской и юношеской литературе. Как и многие другие заимствования из устного народного творчества, они были "инфантилизированы" (поэтому детей, с точки зрения их предпочтений, можно было назвать "крестьянами нового времени"), "инфантилизация" и стала фильтром.
Создавая книгу сказок, братья Гримм пытались, прежде всего, смягчить конфликт отцов и детей. Они считали неприемлемым, что Ханзель и Гретель были выгнаны из родительского дома собственными родителями. Поэтому, создавая свою сказку, они начали с того, что сделали симпатичным образ отца, а в четвёртом издании книги сказок (1840) персонаж матери был заменён персонажем мачехи. Таким образом, авторы отказались от воссоздания в своих произведениях отрицательных образов родителей.
Из их антологии исчезли также истории, в которых преступления не наказываются, а вознаграждаются, как, например, в сказке "Кот в сапогах". Это не помешало авторам активно использовать клише из подобных сказок: дружелюбные охотники, очаровательные принцессы, феи, населяющие слащавый предсказуемый мир. В то же время злодеи стали нести более суровые наказания. Братья Гримм считали необходимым усилить в своих сказках значение нравственных принципов и семейных ценностей. Они ввели в них и религиозные мотивы. В версии их сказки Ханзель и Гретель, чтобы избежать угрожающей им опасности, не полагаются только на свою находчивость и обращаются за помощью к богу. В пятом издании книги сказок (1843) даже подчёркивается, что злая колдунья не верила в бога.
Считалось, что преждевременное чтение романов детьми могло представлять угрозу для их неокрепших целомудренных душ. О подобном вреде, которых был нанесён маленькой чувствительной девочке, рассказала одна из читательниц. Шарлотте Элизабетт Браунсон, дочери пастора Нориджа, было всего семь лет, когда она в полном неведении наткнулась на "Венецианского купца": "Я выпила яд, который на несколько лет помутил мой рассудок, - писала она в 1841 году. - Я упивалась охватившим меня возбуждением; страницы с лёгкостью запечатлевались в моей памяти одна за другой; я провела бессонную ночь из-за роившихся в моей голове пагубных удовольствий. Действительность, окружавшая меня, стала бесцветной, почти ненавистной; разговоры, не касавшиеся писателей, - невыносимыми; я испытывала глубокое презрение к женщинам, детям, домашним заботам, спасаясь за невидимыми барьерами в себе самой. Сколько потерянного времени, бесплодных занятий, сколько вреда я причинила другим из-за ловушек, расставленных в этом романе. Мой рассудок был пуст, моё восприятие людей и вещей - полностью ложными. Родители не ведают, что творят, когда ради тщеславия, из-за недомыслия или чрезмерной снисходительности поощряют в маленькой девочке, так называемый, "вкус к поэзии"
Пережив этот печальный опыт, Шарлотта умоляла других родителей оберегать своих детей от опасного чтения.
Такой же "печальный опыт" современные дети, как считается, переживают при ознакомлении в интернете, например, с чёткой информацией о человеческой сексуальности.
#17.
И тут всех огрело пролетарской оглоблей
Постепенное сокращение рабочего дня предоставило читателям-рабочим новые возможности для чтения. В Великобритании в начале века рабочий день длился в основном 14 часов. В 1847 году, например, в текстильной промышленности он уже равнялся 10 часам. В 1870-х годах лондонские ремесленники были заняты, как правило, 54 часа в неделю. В Германии рабочий день сокращался медленно, но неуклонно, и после 1870 года стал равняться 12 часам. Накануне первой мировой войны, по данным статистического бюро германской империи, из 1,25 миллионов рабочих, чьи условия труда были оговорены в контрактах, 96% работали менее 10 часов в день, но только у 38% рабочий день длился менее 9 часов. В сталелитейной промышленности одна бригада сменяла другую после 12 часов работы.
Исходя из этих условий труда, становится ясно, что время для отдыха использовалось главным образом для восстановления физических сил. Вот почему все немецкие рабочие, когда их спрашивали, как они проводят свой досуг, связывали его с воскресеньем. Они очень любили читать, но излюбленным занятием - по данным Союза в области социальной политики - были прогулки на свежем воздухе.
На привычки в чтении и пользование библиотечным абонементом большое влияние оказывала степень ежедневной рабочей нагрузки. Например, в Германии зимой количество рабочих, берущих книги по абонементу, увеличивалось, а летом - уменьшалось, так как у многих, занятых в разных сферах производства, зимний рабочий день был короче. В периоды безработицы рабочие также брали домой больше книг.
В начале 20 века немецкие социал-демократы предпринимали попытки развивать образование рабочих с помощью библиотечных фондов, укомплектованных в основном литературой по общественным наукам. Они полагали, что вначале читателей привлекут издания развлекательного характера, и затем они постепенно перейдут к сочинениям классиков социализма, в первую очередь - Каутского, и дорастут, в конце концов, до "Капитала". Библиотекарь из Дрездена Грисбах заявлял, что главная задача библиотекаря, организующего обслуживание в рабочей среде, заключается в "развитии читателя, которое начинается с чтения развлекательной литературы и ведёт к изданиям неромантического характера". В Великобритании в 1830-е годы приверженцы утилитаризма, например, евангелисты, требовали, чтобы рабочим дали литературу, которая "сделает их лучше". Также с чисто образовательными целями общество по распространению полезных изданий образовало свою "Библиотеку полезного знания", фонд которой состоял главным образом из сочинений биографического характера и изданий по общественным наукам.
Правда, похоже на старания многих современных деятелей дать народу интернет, который сделает народ лучше?
Эта наивная, полная оптимизма вера социал-демократов в возможность осуществления таким путём образования рабочих была разбита о многие трудности, так как почти все читатели из рабочей среды предпочитали брать только развлекательную литературу. В 1840-х годах Общество по распространению полезных изданий прекратило своё существование. В Германии, в библиотеках для рабочих, обнаружилась "огромная пропасть" между реальным предпочтениями читателей и представлениями членов социал-демократической партии. Из почти 1,1 миллиона выданных по абонементу книг, зарегистрированных библиотеками для рабочих в период с 1908 по 1914 годы, 63% составляла художественная литература и 10% - детские и юношеские издания (волшебные сказки, детские сказки, юмористические рассказы). Сходная ситуация наблюдалась в венской центральной библиотеке для рабочих, где в 1909-1910 годах литературу по общественным наукам брали менее 2% читателей.
Во Франции народные читатели также отказывались мириться с предписаниями библиотекарей. В 1880-1890-х годах романы составляли более половины всей книговыдачи муниципальных библиотек Парижа. Библиотеки, поддерживаемые Обществом имени Франклина, постоянно выражали сожаление, что их читатели серьезным изданиям предпочитают произведения Александра Дюма или "Собор Парижской Богоматери" Гюго.
С другой стороны, усердный поиск и извлечений знаний из книг играли главную роль в обретении интеллектуальной свободы, на которой основывалась политическая деятельность. Благодаря такому подходу вырабатывалась методология и дисциплина, ставшие возможными также благодаря индивидуальному, нравственному и рациональному развитию. В 1814 году молодой текстильщик из Абердина Вилли Том в свободное время читал Вальтера Скотта, например, роман "Уэверли". "Книги, - писал В. Том, - давали нам представление (и оно было нам доступно) об истинном, естественном и рациональном существовании".
Деятельность публичных абонементных библиотек была направлена на решение политических задач. Большое внимание уделялось вопросам филантропии. Как и школы при заводах, публичные библиотеки служили инструментом социального контроля, с помощью которого "благоразумная элита" трудящихся масс приобщалась, а затем приучалась разделять ценности правящего класса. Открывая в 1852 году публичную библиотеку в Манчестере, Чарльз Диккенс в своём выступлении отметил, что в подобных учреждениях он видит гарантов социальной гармонии. Писатель услышал, как один из рабочих со свойственным ему и его товарищам волнением и твёрдостью, идущих из глубины сердца, сказал, что он знает, что книги в этой библиотеке предназначены для него, и что они придадут ему силы в разгар борьбы и во время жизненных испытаний, повысят его в собственных глазах. Из этих книг он узнает, что капитал и труд - не враги, что они зависят друг от друга и взаимно дополняют. Книги позволяют ему прозреть и отбросить предрассудки, ложные идеи, всё, что не является истинным, обратив их в пыль.
Буржуазные реформаторы, занимавшиеся библиотеками, по-прежнему не переставали настойчиво рекомендовать читателям из рабочей среды классическую литературу. Об этом, в частности, свидетельствует основной список рекомендуемых изданий, составленный в 1857 году Агриколем Пердигье для рабочей библиотеки. В него включены "Библия", произведения Вергилия и Гомера, Фенелона, Корнеля, Мольера, Расина и Лафонтена. Подобный выбор мог бы удовлетворить либералов из Общества имени Франклина. Но в отличие от представителей данного общества Пердигье всё же включил в свой список книги по истории французской революции, "Парижские тайны" Эжена Сю, "Собор парижской богоматери" Гюго и произведения Жорж Санд.
Однако читатель из народа, которого нередко снисходительно называли "большой ребёнок", мыслил самостоятельно. Гравер Жирар создал в третьем округе Парижа народную библиотеку и пытался вывести е из-под контроля муниципалитета. В Крезо в 1869 году 29-летний рабочий основал "демократическую библиотеку", которая в этом же году участвовала в кампании республиканского кандидата, а в 1870 году - в кампании, направленной против плебисцита. В 1866 году были созданы две народные библиотеки в городе Сент-Этьен, знатные горожане и клерикальная элита которого сразу же попытались взять её под свой контроль. Библиотечные книги, выдаваемые по абонементу, сразу же вызвали скандал, так как авторами многих из них были Вольтер и Руссо, Жорж Санд и Эжен Сю, обвинённые в пренебрежительном отношении к браку и в оправдании самоубийств и адюльтера. Рабле тоже был причислен к опасным авторам вместе с Мишле за его "Колдунью", Ренаном за "Жизнь Иисуса" и Ламенне за "Слова верующего". В этих библиотеках почитали также Анфантена, Луи Блана, Фурье и Прудона.
#18.
Откуда родом женские сериалы?
Нередко женским чтением руководили мужчины. В некоторых католических семьях женщинам запрещалось читать периодические издания. Чаще всего в семье их читал вслух мужчина, что подчёркивало его моральное превосходство и право выбирать по своему усмотрению наиболее подходящие отрывки из текста и опускать, как цензор, другие. Тематически "территория" газеты была разделена на женскую и мужскую в зависимости от склонностей. Мужчин больше интересовали политические и спортивные новости. Женщины, в первую очередь, обращались к рубрикам, посвящённым происшествиям, и разделам, в которых печатались романы с продолжением.
Роман с продолжением был ежедневной темой обсуждения среди женщин. Многие после получения газеты с очередным продолжением романа сразу же вырезали страницы, на которых он был опубликован, чтобы подклеить их к предыдущим или переплести. Такие импровизированные книги ходили по рукам в женском кругу. Родившаяся в 1900 году дочь сапожника (департамент Воклюз) рассказывала: "Из газеты я вырезала и выплетала страницы с очередным продолжением романа. Подобные "книги" женщины затем передавали друг другу для чтения. Вечерами по субботам мужчины отправлялись в кафе, а к нам приходили женщины играть в карты. Начинался обмен самодельными изданиями с романами. Особенно охотно обменивались романами "Рокамболь" и "Разносчица хлеба".
Таким образом, женщины, которые, может быть, ни разу в жизни не купили ни одной книги, собирали свои собственные библиотеки из вырезанных страниц с текстами романов, которые затем обсуждались и передавались друг другу для чтения. И вот нынешние тупые сериалы - ничто иное как реинкарнация, спорю, не менее тупых романов с продолжением.
Авторы "Истории чтения..." исследовали сабж, начав со времён древних Греции и Рима. Мне это малоинтересно. Поэтому особое внимание я уделил материалу от времени гуманистов, когда чтение начало превращаться в то, чем оно собственно и есть сейчас, - до наших дней.
#1.
Спасение классических произведений
Гуманисты внесли глубокие перемены в практику чтения, причём придерживаясь одного направления. Учёные средних веков читали одинаковым образом канонические авторитетные тексты: Аристотеля и его комментаторов, важнейшие тексты по праву, медицине и богословию, Вульгату, "Метаморфозы" Овидия и "Утешение философией" Боэция. Хотя то были книги разного происхождения и содержания, средневековые читатели видели в них единую систему. В связи с этим они толковали эти тексты не как произведения конкретных людей, каждый из которых жил в своё время и в своём месте, а просто как безличный свод доводов.
Но, на взгляд гуманистов, всё предприятие покоилось на фундаментальной ошибке: комментаторы стремились не объяснить тексты сами по себе, а перенести их содержание в свою эпоху. Например, там, где "Свод гражданского права" говорит о жрецах простых и высших, комментатор Аккурсий думает, что речь идёт о священниках и епископах христианской церкви, известной ему, и усматривает в древнем тексте основополагающую хартию для современной практики. Иначе говоря, тексты эти читали не потому, что те говорили о древнем мире, а потому, что отвечали современным потребностям. Весьма густая сеть гипотез и утверждений, воплощённая в системе комментариев и сопутствующих трудов, связывала древние книги не со временем и местом возникновения текстов, а с выгодой текущей эпохи.
С самого начала гуманизм был попыткой спасти классические произведения, заточенные в "затворённом вертограде" с остроконечными зубцами на стенах, куда их поместили средневековые комментаторы. Потребность преодолеть заслон, поставленный средневековым критическим аппаратом между текстом и читателем, была общим местом гуманистической полемики до самого 16 века.
А что же происходит в 21 веке? Как, например, толкуют труды Маркса? В качестве произведений конкретного человека, жившего в своё время и в своём месте? Или как безличный свод доводов? Читают, потому что его тексты говорят о его мире? Или потому что отвечают современным потребностям?
По сути, сейчас происходит ровно то же самое, что происходило во времена гуманистов. Тогда необходимо было вернуть лицо классическим произведениям, освободить их из рабства у выгоды текущей эпохи - и сейчас необходимо проделать ту же процедуру с произведениями новых классиков. Ведь это не безличный свод доводов, а книги конкретных людей, конкретных мест и конкретного времени.
#2.
Кто, кроме меня, любит писать в книгах?
Попробуйте-как сейчас ручкой сделать пометку на полях какого-нибудь свежеизданного серьёзного толстого труда в твёрдой обложке. Увидит любой приличный человек - отругает. Мол, в книгах писать - всё равно что в церкви плевать.
Между тем, ранее было привычкой писать на полях текстов. Этим промышляли Петрарка, Монтень, Скалигер и многие другие. Гуманисты превращали свои книги в ценный источник по собственной интеллектуальной биографии и истории кружков, в которых он умственно рос. То, что пометы делались очень разборчивым и изящным почерком, показывает, что владельцы считали эти пометы достойными постоянного употребления. Когда такие люди, как Гарвей, собирали целые библиотеки аннотированных таким образом экземпляров, они, возможно, имели в виду не опубликовать когда-либо свои заметки, а создать справочный корпус для всех членов интеллектуального кружка.
#3.
Исторические параллели
Церковники и власть имущие консерваторы не зря боятся интернета. Эти регрессоры помнят, в отличие от многих современных реформаторов, что Реформация была дочерью Гутенберга, и понимают, что любая новая реформация может явиться в мир только как дитя интернета. Если бы отец наш Лютер знал, что однажды появится интернет, он бы не спешил высказываться о книгопечатании так: "Книгопечатание - последний дар божий и величайший. В самом деле, через него бог хочет, чтобы дело истинной веры стало известно по всей земле до пределов мира". Как ни крути, но по всей земле до пределов мира - это слова об интернете, так что, книгопечатание было, как минимум, предпоследним даром бога в деле распространения истинной веры.
А что же наши с вами блоги? Все эти жжшные войны? А что же сливы на бесконечных сайтах?
Вероятно, убеждение в чрезвычайной важности печатной книги при распространении протестантизма происходит от "войны памфлетов". Вскоре после того как Лютер возмутился против насаждения индульгенций, в Германии началась широкая "агитационная кампания", продолжавшаяся с 1520 по 1525 годы. Тысячи памфлетов - брошюрок из нескольких листков в четвёрку - ходили по всей Империи. Все новые вопросы, поднятые Реформацией, обсуждались в этих наспех написанных, плохо построенных, невнятных и велеречивых листовках. Часто одни и те же тексты в форме проповедей, диалогов или писем воспроизводились в разных городах. Фактически речь идёт о первом использовании печатного слова для воздействия на общественное мнение. Это половодье мелких изданий (по-немецки очень выразительно называемых "летучими") быстро сделало имя и дело Лютера известными не только в Германии, но и во всей Европе.
Так вот, война в интернете - это всё равно что война памфлетов. Причём противодействовать войне в интернете власть имущие пытаются с той же глубинной глупостью, как и их коллеги противодействовали войне памфлетов. Например, Ордонанс города Лаон от 1565 года дал замечательный пример страха перед еретической книгой. Он потребовал затыкать все выходящие на улицу отдушины в домах, потому что посланцы из Женевы по ночам подбрасывали брошюрки в подвалы.
#4.
Частично это сводится к деньгам
Неплохо подумать об экономических последствиях борьбы отца нашего Лютера и его идей. Лютер изменил экономическое положение Виттенберга. В 1517 году в этом университетском городке была лишь одна совершенно провинциальная типография. Через несколько лет прессов для распространения потока сочинений реформатора в городе стало столько, что он вошёл в число шести-семи крупнейших типографских центров Германии.
Нечто подобное произошло и в Женеве после того, как там была провозглашена Реформация, и обосновался Кальвин. С 1537 по 1550 года рост оставался ещё небольшим, но затем город, имевший 12 тысяч жителей, стал принимать всё больше и больше печатников, наводняя Францию и другие соседние страны реформатскими изданиями. Идеологическая мотивация этих печатников поддерживалась и материальными интересами. Архивы города сохранили отголоски многочисленных конфликтов, вызванных жестокой конкуренцией: в 1550-1562 годах печатание реформатских книг в Женеве было источником серьёзных доходов.
В 16 веке любая религиозная группа нуждалась в доступе к печатному станку. Это доказывает политика диссидентских сект в центральной Европе. Польские и венгерские антитринитарии, чешские чашники, моравское братство - все считали необходимым обладать печатью, чтобы обеспечить свою религиозную идентичность. Типографии служили как внутренним потребностям, издавая богослужебную, катехическую и духовную литературу, так и печатая контрпропагандистские книжки против других конфессий.
Это всё сильно отличается от ситуации с экономическими последствиями развития интернета. Если Реформация посредством книгопечатания обретала экономическую опору (ну, конечно, вдобавок к другим экономическим опорам), то новая реформация посредством интернета не способна обрести экономическую опору, строго говоря, за серверами в другой город тысячи людей не поедут.
#5.
Убил дракона? Превращайся в дракона
Как и все порядочные реформаторы, деятели Реформации во главе с отцом нашим Лютером, сломав цензуру, установили свою цензуру. Сломав догму, создали питательную среду для возникновения новой догмы.
Лютер жаловался на изобилие бесполезных и даже вредных книг. Около 1520 года он писал в "Манифесте к христианскому дворянству германской нации": "Что же до богословских книг, надо было бы уменьшить их число и выбрать лучшие. Не стоит впредь читать много, но читать доброе и читать часто, как бы мало доброго ни было. Вот что делает сведущим в священном писании и вместе с тем благочестивым".
Конечно, протестанты выдвинули тезис scriptura sola, но его не надо понимать как "написанное и только написанное". Этот принцип, требовавший обоснования богословских позиций священным писанием, позволял отбросить человеческие предания, не подтверждённые "Библией". Тут нет ничего общего со свободным исследованием, появившимся в либеральном протестантизме только в 18 веке.
В 1529 году, закончив оба свои катехизиса, Лютер настаивает на необходимости каждому дать эти руководства: "Катехизис - "Библия" мирянина; в нём есть всё, что каждый мирянин должен знать о христианском учении". Его концепция образования подтверждает это воззрение. Для Лютера задача школы не в том, чтобы всем дать доступ к культуре. Функция школы - создать образованную элиту, которая сможет руководить и гражданским, и церковным обществом. Точно так же в 1524 году, призывая магистраты создавать хорошие библиотеки, Лютер ставит перед ними две цели: сохранить книги и способствовать обучению духовных и светских лидеров. О народном чтении речи нет.
#6.
Кому из людей может доверять регрессор?
В чём состоит мечта любого современного ограничителя интернета? Ну, имеются в виду не слишком глупые ограничители, то есть не те, кто желает запретить интернет вовсе.
Мечта сия состоит в том, чтобы доступ к интернету происходил по дозволению или в зависимости от статуса. Например, после согласия специальной комиссии сделать тот или иной материал публичным; в результате профессиональной необходимости ознакомиться с тем или иным материалом; в результате обладания званием, разрешающим что угодно на этом свете, а также, возможно, и на том; по достижению определённого возраста.
Точно так же власть имущие 16 века регулировали доступ к книгам. Так, Генрих 8 очень долго вообще запрещал распространение "Библии" на английском языке. В 1543 году он, наконец, уступил давлению своего окружения. Но обставил разрешение печатать английскую "Библию" весьма показательными ограничениями.
Король установил три способа чтения для трёх категорий лиц. Люди знатные и благородные могли читать писание по-английски и даже зачитывать его вслух как для себя, так и для всех, проживающих под их кровлей. Довольно присутствия одного дворянина, чтобы доступ к писанию был свободен. На другом конце социальной лестницы - те, кому чтение английской "Библии" запрещено совершенно: женщины, ремесленники, ученики и подмастерья на службе у лиц, равных по состоянию мелким землевладельцам, земледельцам и разнорабочим. Находящиеся посередине между этими категориями, собственно буржуазия и благородные женщины, "могут читать любые книги "Ветхого завета" и "Нового завета" про себя и никому более". Таким образом, эта средняя категория достаточно компетентна сама, чтобы не соблазниться, но недостаточно авторитетна, чтобы утвердить своё мнение для окружающих.
Римские власти не отставали от последователей Реформации. "Индекс запрещённых книг", завершение которого было доверено папе Пию 4, вышел в свет в марте 1564 года. Он открывался точными правилами дозволенного пользования переводами Библии. Два основных условия вводились четвёртым правилом: чтение разрешалось исключительно лицам, получившим письменное разрешение епископа или инквизитора, выдававшееся "по совету с приходским священником или духовным отцом". В любом случае, разрешение могло быть дано исключительно людям "учёным и богобоязненным", "что могут извлечь из этого чтения не ущерб, но некое приращение для веры и благочестия".
Вот и сейчас доступ к интернету регрессоры пытаются оставить лишь лицам властебоязненным и не столько учёным, сколько согласным с логикой жизни в том или ином обществе.
#7.
Всё глубже, чем кажется
Смертельный удар королевскому правлению в Франции в 18 веке нанёс кто? Якобинцы? Впечатать бы в лоб всем нынешним революционерам: смертельный удар королевскому правлению нанесли читатели. Революция совершилась не волнениями и казнями, а чтением.
В метрополии Франции можно было наблюдать такие сцены: "В Париже все читали. Все - и особенно женщины - носили при себе книги. Читали в экипаже во время прогулки, в театре - во время антракта, в кафе, в купальне. В лавках женщины, дети, компаньоны, ученики - все читали. По воскресеньям люди читали, устроившись перед дверьми своих домов, лакеи - на задних сиденьях экипажей, кучера - на своих традиционных местах, солдаты - во время несения караула". Несколькими годами позже Германия (здесь и далее по тексту название страны "Германия" обозначает не политическое или территориальное, а культурное и языковое пространство) также была полностью охвачена этой культурной революцией.
Действительно, казалось, что революция чтения нигде больше не достигала такого размаха и динамики, как в центральной Европе, по которой дотоле неизвестная "болезнь" быстро распространялась. В 1796 году священнослужитель Иоганн Рудольф Бейер описал её главные признаки: "Читатели и читательницы вставали и ложились с книгой в руках, не выпускали её из рук за столом, клали рядом с выполняемой работой, брали с собой на прогулку, не в силах оторваться от чтения. Не успев дочитать одну книгу, они уже брались за другую. Как только они проглядывали последнюю страницу очередной книги, так сразу же жадно начинали оглядываться в поисках новой. Заметив хоть что-то, что могло занять место на их книжной полке или быть прочитано на туалетном столике, на пюпитре или где-либо ещё, они овладевали этим и страстно начинали читать. Ни один курильщик, ни один любитель кофе или вина, ни один игрок не могли в такой степени быть привязанными к своей трубке, чашке кофе, бутылке вина, игральному столу, как эти, жадные до чтения люди, - к своему чтению".
Этой болезни, которой современники поставили правильный диагноз, правда, не зная, как её лечить, - учёные-исследователи нашего времени дали название "революция чтения", основываясь на модели, объясняющей это изменение в светском обществе как революционный переход от "интенсивного чтения" к "экстенсивному чтению". На основе источников из протестантской северной и центральной Германии Рольф Энгельзинг описал процесс, в ходе которого в 18 веке интенсивное и повторяющееся чтение маленькими частями знакомых текстов (как правило, религиозных и особенно "Библии"), воспроизводившихся, комментировавшихся и остававшихся неизменными на протяжении жизни, - переросло в современное экстенсивное чтение светских новых и разнообразных текстов.
Так что, великая французская революция - это, прежде всего, великая революция чтения. Буржуазная идентичность формировалась с появлением нового, не зависившего от аристократии общественного мнения, которое "как общий результат мнений частных лиц, образующих сообщество", было направлено против удерживаемой государственными властями и Церковью монополии на информацию и её интерпретацию, способствовало внедрению в жизнь новых антифеодальных структур коммуникации и обмена сначала в области литературы, а затем - политики. Ничто, по сравнению с печатным словом, не могло лучше выполнить эту коммуникационную функцию.
Письменная культура и литература стали экспериментальными полями для самовыражения и анализа. Таким образом, книга и чтение приобрели новое значение в общественном сознании. В сложившихся условиях, когда буржуазия стала располагать временем для чтения и возможностью приобретать достаточное количество книг, чтение превратилось в социальную действующую силу, способствующую обретению независимости. Оно расширяло нравственные и художественные горизонты, преобразуя читателя в гражданина, полезного для общества, помогая ему лучше осознавать свои обязанности и роль в обществе. Печатное слово стало движущей силой буржуазной культуры.
#8.
С мечтой о Стокгольме
В бывшем СССР распространена особая любовь к Швеции и желание жить "как в Швеции". Некоторые лица даже призывают кое-что повторять из шведской политической практики, чтобы жить лучше. Что ж, кроме религиозных, географических отличий есть ещё отличие в чтении. С конца 18 века большинство населения Швеции грамотно. У нас тут всеобщая грамотность ещё век не пережила, а там уже третий живёт.
#9.
Стихия чтения
Помню, во дни оранжевой революции многие носились с распечатками заметок на форумах, сайтах. Делились этими распечатками, обсуждали потом. Чего стоили только дискуссии в барах, особенно в тех, где постоянно были какие-нибудь иностранцы или представители диаспоры. Теперь то ношение с распечатками вспоминают с улыбкой как нечто невиданно-романтическое. Так вот, конечно, нет ничего нового под Луной, и когда чтение делало революцию, неграмотные люди не могли остаться в стороне. И не остались. Как не остались в стороне те, кто не посещал оранжево-революционные форумы и сайты.
В сложившемся укладе жизни сельского населения 18 века, от слуги до зажиточного крестьянина, умение читать (и к тому же свободно) воспринималось как излишество: достаточно основных навыков, чтобы разбирать инструкции по кровопусканию, поговорки о погоде и времени посева, а также популярные религиозные и мирские издания, распространявшиеся на рынках и торгующими вразнос.
Однако это "дикое" чтение могло развиваться параллельно с групповым. Речь идёт о "пассивном" чтении, когда вслух читал кто-то другой. В этом случае, быть грамотным необязательно. Например, в семьях религиозные тексты читали или отцы семейства, или дети, а в общественных местах – на рынках, постоялых двора – любой, кто умел. Это способствовало распространению политических и других новостей. В конце 18 века большие усилия, которые прилагали просвещённые умы по преобразованию распространённого среди сельского населения "дикого" чтения в "полезное" путём авторитарного руководства им, в целом завершились неудачей.
Потрясения, связанные с французской революцией, сильно изменили положение дел. Даже деревенские жители стали проявлять интерес к сенсационным новостям, в которых говорилось о свободе, равенстве и братстве. Адвокаты, занимавшие невысокие должности, учителя, студенты, священники-реформаторы, содержатели постоялых дворов, почтмейстеры - читали вслух газеты, вовлекая слушателей в бурные споры. Всё это побуждало людей самостоятельно учиться читать (контроль за общественным мнением со стороны власть предержащих в целях противостояния революционным настроениям в массах оказывал то же воздействие).
(Кстати, "дикому" чтению тогда же стало противостоять чтение "эрудированное". Среди интеллектуальной элиты было распространено не только беглое поверхностное, "новое" чтение, но и появившееся в 17 веке экстенсивное чтение энциклопедического характера. Однако в середине 18 века эрудит, проводивший жизнь, уткнувшись в книги, забыв про всё на свете, становится объектом насмешек. Его книжные знания, упорно противопоставлявшиеся любому проявлению прагматизма, противоречили буржуазному мировоззрению эпохи Просвещения. На смену педантичному и важному кабинетному мыслителю пришёл эрудированный и энергичный "денди", чьи отношения с науками были скорее поверхностными).
#10.
Запрети - и все всё достанут
Конец 18 века показал западной Европе, что такое светлая сторона запретов. Долго запрещая любую антирелигиозную литературу, власть имущие добились того, что не только католики-эрудиты, но и более широкий круг верующих католиков очень быстро приобщился к чтению светских изданий, правда, по сравнению с протестантами, - на два или три десятилетия позже. Освобождаясь при этом радикальным образом от церковного влияния. Ничто больше так не желалось, не печаталось, не читалось, не продавалось, не рекомендовалось, как издания, в которых дискредитировалась религия. Они переходили из рук в руки, их переиздавали. Тираж некоторых из них исчерпывался через три месяца. Обычные школы, где учили читать, и свобода печати способствовали тому, что любой мог читать всякого рода измышления, которые могли публиковать эти "пишущие маньяки". Были даже общедоступные школы, в которых преподаватели рекомендовали подобные материалы своим ученикам и зачитывали отрывки из них вслух. Девушки приносили их с собой в церковь. Мальчики, которые ещё только учили правила грамматики, знали о них. Священники выставляли эти издания напоказ, расставляя их поверх своих книжных шкафов.
#11.
Первые бестселлеры
Концепция чтения эпохи Просвещения при решающем значении социальной составляющей в сфере культуры претерпела изменения в своём развитии, особенно начиная с 1770 года. Быстро освобождаясь от противоречий, свойственных рационализму, от его академизма, критериев восприятия и авторитарного руководства, в этой сфере всё большее значение приобретают эмоциональные и индивидуальные факторы. Они обозначили новый, особо сложный этап исторического развития чтения, длившийся в течение нескольких десятилетий, для которого было характерно "сентиментальное" или "эмфатическое" чтение. Чтение, в котором индивидуальная страсть читающего, изолировавшая его от окружающей действительности и общества, сочеталась с жаждой общения и сопричастности через обращение к чтению.
Особенно горячий приём у женщин встретил роман "Памела". В нём Ричардсон с небывалой доселе точностью описал специфический женский мир - шла ли речь о подробностях ведения домашнего хозяйства или интимных любовных отношениях. Роман был написан в эпистолярном жанре, что свидетельствовало о преобладании субъективного восприятия событий его героями. Всё это способствовало тому, что "Памела" стала произведением, которое "могло быть одновременно положительно оценено Церковью и подвергнуто осуждению как порнографическое. Оно могло нравиться читателям, производя на них двойное притягательное воздействие: воздействие проповеди и воздействие стриптиза".
Как об этом свидетельствует "Похвала Ричардсону" Дидро (1761), во Франции этот роман также нашёл широкий отклик у читателей. Но только благодаря Руссо пожар, разгоревшийся из-за этой книги, стал распространяться как по пороховому приводу. Руссо хотел с помощью литературы проникнуть в суть жизни, своей и своих читателей. А его читали, со своей стороны, стремились к чтению подобной литературы не для того, чтобы испытать удовольствие от чтения художественного произведения, а для того, чтобы лучше познать жизнь, особенно семейную, что в точности соответствовало воззрениям Руссо.
"Новая Элоиза" (1761), издававшаяся не менее 70 раз до 1800 года, - самый лучший бестселлер периода королевского правления, - производила на своих читателей неисчислимые сильные воздействия, включая приступы истерики и состояния крайней подавленности (депрессии). Робер Дарнтон подчёркивает, что "мы почти не можем себе представить" эту страсть к чтению. "Она нам кажется такой же странной, как страх балийцев перед демонами", или ещё проще – как юношеский экстаз на концерте поп-музыки.
#12.
Первые самоубийства под влиянием книг
В 1774 году широчайший читательский резонанс получила книга Гёте "Страдания молодого Вертера". Но в отличие от Руссо Гёте не придавал никакого значения установлению хоть какой-то близости с читателями. Что не помешало части в основном молодых читателей увидеть в этой трагической любовной истории, в которой светская буржуазная мораль уже больше не пропагандировалась и даже разоблачалась, не только художественный вымысел, но и приглашение к подражанию в духе прежней традиции создания "полезных" поучительных текстов. К сожалению, фатальным следствием неверно понятого содержания романа стала прокатившаяся среди читателей "Вертера" волна самоубийств. Однако подавляющая часть читающей публики ограничилась внешними признаками подражания герою, превратив его манеру одеваться (голубой сюртук и жёлтые брюки) в символ мятежной юности и покупая ставшие культовыми предметы, такие, например, как знаменитая чашка Вертера.
#13.
Романы изменили досуг, а их чтение было названо болезнью
Занятие чтением, считающееся относительно новым культурным явлением, стало неотъемлемой частью повседневной жизни буржуазной семьи. До этого только эрудиты с наступлением ночи корпели над книгами. Теперь же вечера и ночи и для любителей литературы стали временем проведения досуга, включая чтение книг. Это свидетельствует об изменении восприятия времени в буржуазной среде.
И к чему это привело? Как сейчас регрессоры сеют хулу на интернет, так тогда сеяли хулу на чтение романов: "Видно невооружённым взглядом, как убивают свободу мысли и свободу печати. Чтение в той степени, в какой оно разжигает и даёт волю воображению, удаляет читателя от реальных чувственных ощущений и восприятия окружающей действительности с риском доведения его до состояния полного разочарования в жизни, вплоть до нигилизма". Женщинам, увлекающимся романами, ставился в упрёк уход в мир бездействия и сентиментальных наслаждений как раз в то время, когда буржуазное общество и семья возложили на них новые важные задачи. Регрессоры также выражали недовольство тем, что романы возбуждают воображение, вредят морали и отвращают от труда. Иммануил Кант прямо заявлял: "Чтение романов, наряду со многими другими умственными расстройствами, приводит к тому, что развлечение становится обычным занятием".
#14.
Романы, женские
Для издателей эпохи Реставрации (1815-183) женщина была, прежде всего, читательницей романов. Верде в Париже предлагал читательницам "собрание лучших французских романов, посвящённых женщинам", а Стелла в Милане - романы "для дам благородного происхождения". Такие заверения демонстрировали респектабельность, стремление завоевать как покупателей мужчин, так и женщин, которые в предлагаемых изданиях не найдут ничего, что могло бы оскорбить их деликатные чувства. Эти издания нашли собственную нишу на книжном рынке, что способствовало зарождению женской субкультуры. Но вопреки ожиданиям объём продаж падал, и в 1830-е годы их выпуск был прекращён. И тем не менее, эти собрания, о которых больше говорит состав их читателей, чем содержательное наполнение, были настоящим новшеством для общества того времени.
Стендаль в своих письмах подчёркивал значение для творчества романиста, особенно в провинции, внимания читательниц: "В провинции совсем немного женщин, которые прочитывают по пять или шесть томов в месяц; многие читают по пятнадцать или двадцать; и вы не найдёте маленького городка, в котором не было бы двух или трёх кабинетов чтения". Если горничные, сообщает он, читали произведения таких авторов, как Поль де Кок, издававшиеся форматом в одну двенадцатую печатного листа, то завсегдатайницы салонов предпочитали более солидные издания в формате ин-октавио, указывавшем, к тому же, и на более качественную литературу.
Несмотря на то что читательницами романов были не только женщины, выпускавшие их издатели ориентировались, прежде всего, на читательниц, особенно когда речь шла о популярных и сентиментальных романах. Явное преобладание женщин среди читателей романов, казалось, подтверждало бытовавшее предубеждение о роли женщины в обществе и её интеллекте. На этом основании роман относили к женской литературе, потому что в женщинах видели интеллектуально ограниченных, фривольных созданий, полных фантазий и одновременно находящихся в плену у своих переживаний. Роман противопоставлялся образовательной литературе, так как предъявлял невысокие требования к своим читателям, а его предназначение заключалось в развлечении тех, у кого было много свободного времени. А главное - он уводил в царство грёз. Мужским чтением считались газеты, отчёты о событиях, происходивших в обществе. Романы же, в которых описывался, главным образом, внутренний мир, больше воссоздавали частную жизнь, которой был ограничен мир представительниц буржуазных семей 19 века.
Чтение романов женщинами было небезопасно для мужей и отцов буржуазных семейств, так как могло возбудить нежелательные страсти, экзальтировать женское воображение. Оно могло стать причиной неразумных сентиментальных ожиданий, возникновения эротических эмоций, что угрожало нравственной чистоте и порядочности нравов. Таким образом, роман 19 века ассоциировался с большим соответствием женской натуре, с чертами иррациональности в её характере. Не случайно супружеская неверность стала одной из основных тем романов и причин воссоздания образов их героинь от Эммы Бовари до Анны Карениной и Эффи Брист.
Чтение играло важную роль в общении женщин. В то время как мужчины в кафе и кабаре с газетами в руках говорили о политике, женщины постоянно обменивались романами и книгами прикладного характера, полезными в хозяйстве. Писатель - житель Бордо - отмечал в 1850 году: "Сегодня общество разделено на две большие части: одну представляют мужчины, которые играют и курят, другую - женщины и девушки, чья жизнь проходит за чтением романов и музицированием".
#15.
Навязывание догмы о рациональном
Часто приходится слышать сетования регрессоров на то, что интернет забит всякой похабщиной, бессмыслицей, да и вообще является свалкой. Что ж, мысль не нова. Точно такую же мысль регрессоры прошлых веков высказывали о романах.
Современники, поднимавшие голоса против пагубной страсти к чтению, выступали и против абонементных библиотек как главных очагов этого порока. Их называли "борделями и местами полной утраты нравственности и морали", которые распространяли свой "духовный мышьяк" среди знатных и обездоленных, молодых и старых.
Всё чаще и настойчивее, особенно после французской революции, стали раздаваться призывы к установлению надзора за этими "местами гибели морали". К 1800 году в государствах с населением, говорившим на немецком языке, абонементные библиотеки были или строго запрещены (например, в Австрии они были закрыты в период с 1799 по 1811 годы), или подвергнуты строгому контролю (например, в Пруссии указом Вёльнера от 1788 года, в Баварии указом от 1803 года).
Как и интернет сейчас, чтение тогда стало обычным занятием подобно любому другому, в зависимости от обстоятельств и ситуации ориентированное на развитие культуры и информации или, наоборот, рассматриваемое как последний оплот, противостоящий внешнему миру. Клубы чтения сначала служили для обсуждения социальных проблем, а потом стали местом встреч и общения. Некоторые из них преобразовались в ассоциации знатных особ, просуществовав в этом качестве весь 19 век, а отдельные даже сохранились до наших дней.
Но настал момент, когда развитие чтения смешало карты и регрессорам, и просветителям. Буржуазные рационалисты полагали, что пусть спасения имманентной и трансцендентной точек зрения пролегает через чтение. Их ярая пропаганда полезного чтения познакомила поднимающуюся буржуазию с этим культурным занятием как с оригинальным видом коммуникации. Их противники - приверженцы традиций - выступали против чтения с не меньшей запальчивостью, потому что в их глазах чтение было равнозначно первородному греху: тот, кто читал, вкушал плод с запретного древа познания.
За несколько десятилетий эти две тенденции полностью исчерпали себя. Массовое воспитание чтением потеряло свою актуальность, так как с 1800 года публика стала разнородной, разобщённой и, что называется, неизвестной. Одним словом - современной. Читатели уже больше не читали то, что им рекомендовали власть предержащие или идеологи. Они предпочитали чтение, которое удовлетворяло именно их конкретные потребности: в эмоциональном, интеллектуальном, общественном и личном планах.
#16.
Цензура деточек ради
Фильтры интернета, ограждающие детей от всего "лишнего", берут своё начало в фильтрах литературы, ограждавших детей также от всего "лишнего", только по меркам эпохи после революции чтения. Яркий пример фильтра - братья Гримм.
Начало развития детской литературы было связано с любовью детей к волшебству. В романтическом 19 веке народные сказки, возникшие в среде крестьян, получили название "волшебные сказки", чтобы подчеркнуть их принадлежность к детской и юношеской литературе. Как и многие другие заимствования из устного народного творчества, они были "инфантилизированы" (поэтому детей, с точки зрения их предпочтений, можно было назвать "крестьянами нового времени"), "инфантилизация" и стала фильтром.
Создавая книгу сказок, братья Гримм пытались, прежде всего, смягчить конфликт отцов и детей. Они считали неприемлемым, что Ханзель и Гретель были выгнаны из родительского дома собственными родителями. Поэтому, создавая свою сказку, они начали с того, что сделали симпатичным образ отца, а в четвёртом издании книги сказок (1840) персонаж матери был заменён персонажем мачехи. Таким образом, авторы отказались от воссоздания в своих произведениях отрицательных образов родителей.
Из их антологии исчезли также истории, в которых преступления не наказываются, а вознаграждаются, как, например, в сказке "Кот в сапогах". Это не помешало авторам активно использовать клише из подобных сказок: дружелюбные охотники, очаровательные принцессы, феи, населяющие слащавый предсказуемый мир. В то же время злодеи стали нести более суровые наказания. Братья Гримм считали необходимым усилить в своих сказках значение нравственных принципов и семейных ценностей. Они ввели в них и религиозные мотивы. В версии их сказки Ханзель и Гретель, чтобы избежать угрожающей им опасности, не полагаются только на свою находчивость и обращаются за помощью к богу. В пятом издании книги сказок (1843) даже подчёркивается, что злая колдунья не верила в бога.
Считалось, что преждевременное чтение романов детьми могло представлять угрозу для их неокрепших целомудренных душ. О подобном вреде, которых был нанесён маленькой чувствительной девочке, рассказала одна из читательниц. Шарлотте Элизабетт Браунсон, дочери пастора Нориджа, было всего семь лет, когда она в полном неведении наткнулась на "Венецианского купца": "Я выпила яд, который на несколько лет помутил мой рассудок, - писала она в 1841 году. - Я упивалась охватившим меня возбуждением; страницы с лёгкостью запечатлевались в моей памяти одна за другой; я провела бессонную ночь из-за роившихся в моей голове пагубных удовольствий. Действительность, окружавшая меня, стала бесцветной, почти ненавистной; разговоры, не касавшиеся писателей, - невыносимыми; я испытывала глубокое презрение к женщинам, детям, домашним заботам, спасаясь за невидимыми барьерами в себе самой. Сколько потерянного времени, бесплодных занятий, сколько вреда я причинила другим из-за ловушек, расставленных в этом романе. Мой рассудок был пуст, моё восприятие людей и вещей - полностью ложными. Родители не ведают, что творят, когда ради тщеславия, из-за недомыслия или чрезмерной снисходительности поощряют в маленькой девочке, так называемый, "вкус к поэзии"
Пережив этот печальный опыт, Шарлотта умоляла других родителей оберегать своих детей от опасного чтения.
Такой же "печальный опыт" современные дети, как считается, переживают при ознакомлении в интернете, например, с чёткой информацией о человеческой сексуальности.
#17.
И тут всех огрело пролетарской оглоблей
Постепенное сокращение рабочего дня предоставило читателям-рабочим новые возможности для чтения. В Великобритании в начале века рабочий день длился в основном 14 часов. В 1847 году, например, в текстильной промышленности он уже равнялся 10 часам. В 1870-х годах лондонские ремесленники были заняты, как правило, 54 часа в неделю. В Германии рабочий день сокращался медленно, но неуклонно, и после 1870 года стал равняться 12 часам. Накануне первой мировой войны, по данным статистического бюро германской империи, из 1,25 миллионов рабочих, чьи условия труда были оговорены в контрактах, 96% работали менее 10 часов в день, но только у 38% рабочий день длился менее 9 часов. В сталелитейной промышленности одна бригада сменяла другую после 12 часов работы.
Исходя из этих условий труда, становится ясно, что время для отдыха использовалось главным образом для восстановления физических сил. Вот почему все немецкие рабочие, когда их спрашивали, как они проводят свой досуг, связывали его с воскресеньем. Они очень любили читать, но излюбленным занятием - по данным Союза в области социальной политики - были прогулки на свежем воздухе.
На привычки в чтении и пользование библиотечным абонементом большое влияние оказывала степень ежедневной рабочей нагрузки. Например, в Германии зимой количество рабочих, берущих книги по абонементу, увеличивалось, а летом - уменьшалось, так как у многих, занятых в разных сферах производства, зимний рабочий день был короче. В периоды безработицы рабочие также брали домой больше книг.
В начале 20 века немецкие социал-демократы предпринимали попытки развивать образование рабочих с помощью библиотечных фондов, укомплектованных в основном литературой по общественным наукам. Они полагали, что вначале читателей привлекут издания развлекательного характера, и затем они постепенно перейдут к сочинениям классиков социализма, в первую очередь - Каутского, и дорастут, в конце концов, до "Капитала". Библиотекарь из Дрездена Грисбах заявлял, что главная задача библиотекаря, организующего обслуживание в рабочей среде, заключается в "развитии читателя, которое начинается с чтения развлекательной литературы и ведёт к изданиям неромантического характера". В Великобритании в 1830-е годы приверженцы утилитаризма, например, евангелисты, требовали, чтобы рабочим дали литературу, которая "сделает их лучше". Также с чисто образовательными целями общество по распространению полезных изданий образовало свою "Библиотеку полезного знания", фонд которой состоял главным образом из сочинений биографического характера и изданий по общественным наукам.
Правда, похоже на старания многих современных деятелей дать народу интернет, который сделает народ лучше?
Эта наивная, полная оптимизма вера социал-демократов в возможность осуществления таким путём образования рабочих была разбита о многие трудности, так как почти все читатели из рабочей среды предпочитали брать только развлекательную литературу. В 1840-х годах Общество по распространению полезных изданий прекратило своё существование. В Германии, в библиотеках для рабочих, обнаружилась "огромная пропасть" между реальным предпочтениями читателей и представлениями членов социал-демократической партии. Из почти 1,1 миллиона выданных по абонементу книг, зарегистрированных библиотеками для рабочих в период с 1908 по 1914 годы, 63% составляла художественная литература и 10% - детские и юношеские издания (волшебные сказки, детские сказки, юмористические рассказы). Сходная ситуация наблюдалась в венской центральной библиотеке для рабочих, где в 1909-1910 годах литературу по общественным наукам брали менее 2% читателей.
Во Франции народные читатели также отказывались мириться с предписаниями библиотекарей. В 1880-1890-х годах романы составляли более половины всей книговыдачи муниципальных библиотек Парижа. Библиотеки, поддерживаемые Обществом имени Франклина, постоянно выражали сожаление, что их читатели серьезным изданиям предпочитают произведения Александра Дюма или "Собор Парижской Богоматери" Гюго.
С другой стороны, усердный поиск и извлечений знаний из книг играли главную роль в обретении интеллектуальной свободы, на которой основывалась политическая деятельность. Благодаря такому подходу вырабатывалась методология и дисциплина, ставшие возможными также благодаря индивидуальному, нравственному и рациональному развитию. В 1814 году молодой текстильщик из Абердина Вилли Том в свободное время читал Вальтера Скотта, например, роман "Уэверли". "Книги, - писал В. Том, - давали нам представление (и оно было нам доступно) об истинном, естественном и рациональном существовании".
Деятельность публичных абонементных библиотек была направлена на решение политических задач. Большое внимание уделялось вопросам филантропии. Как и школы при заводах, публичные библиотеки служили инструментом социального контроля, с помощью которого "благоразумная элита" трудящихся масс приобщалась, а затем приучалась разделять ценности правящего класса. Открывая в 1852 году публичную библиотеку в Манчестере, Чарльз Диккенс в своём выступлении отметил, что в подобных учреждениях он видит гарантов социальной гармонии. Писатель услышал, как один из рабочих со свойственным ему и его товарищам волнением и твёрдостью, идущих из глубины сердца, сказал, что он знает, что книги в этой библиотеке предназначены для него, и что они придадут ему силы в разгар борьбы и во время жизненных испытаний, повысят его в собственных глазах. Из этих книг он узнает, что капитал и труд - не враги, что они зависят друг от друга и взаимно дополняют. Книги позволяют ему прозреть и отбросить предрассудки, ложные идеи, всё, что не является истинным, обратив их в пыль.
Буржуазные реформаторы, занимавшиеся библиотеками, по-прежнему не переставали настойчиво рекомендовать читателям из рабочей среды классическую литературу. Об этом, в частности, свидетельствует основной список рекомендуемых изданий, составленный в 1857 году Агриколем Пердигье для рабочей библиотеки. В него включены "Библия", произведения Вергилия и Гомера, Фенелона, Корнеля, Мольера, Расина и Лафонтена. Подобный выбор мог бы удовлетворить либералов из Общества имени Франклина. Но в отличие от представителей данного общества Пердигье всё же включил в свой список книги по истории французской революции, "Парижские тайны" Эжена Сю, "Собор парижской богоматери" Гюго и произведения Жорж Санд.
Однако читатель из народа, которого нередко снисходительно называли "большой ребёнок", мыслил самостоятельно. Гравер Жирар создал в третьем округе Парижа народную библиотеку и пытался вывести е из-под контроля муниципалитета. В Крезо в 1869 году 29-летний рабочий основал "демократическую библиотеку", которая в этом же году участвовала в кампании республиканского кандидата, а в 1870 году - в кампании, направленной против плебисцита. В 1866 году были созданы две народные библиотеки в городе Сент-Этьен, знатные горожане и клерикальная элита которого сразу же попытались взять её под свой контроль. Библиотечные книги, выдаваемые по абонементу, сразу же вызвали скандал, так как авторами многих из них были Вольтер и Руссо, Жорж Санд и Эжен Сю, обвинённые в пренебрежительном отношении к браку и в оправдании самоубийств и адюльтера. Рабле тоже был причислен к опасным авторам вместе с Мишле за его "Колдунью", Ренаном за "Жизнь Иисуса" и Ламенне за "Слова верующего". В этих библиотеках почитали также Анфантена, Луи Блана, Фурье и Прудона.
#18.
Откуда родом женские сериалы?
Нередко женским чтением руководили мужчины. В некоторых католических семьях женщинам запрещалось читать периодические издания. Чаще всего в семье их читал вслух мужчина, что подчёркивало его моральное превосходство и право выбирать по своему усмотрению наиболее подходящие отрывки из текста и опускать, как цензор, другие. Тематически "территория" газеты была разделена на женскую и мужскую в зависимости от склонностей. Мужчин больше интересовали политические и спортивные новости. Женщины, в первую очередь, обращались к рубрикам, посвящённым происшествиям, и разделам, в которых печатались романы с продолжением.
Роман с продолжением был ежедневной темой обсуждения среди женщин. Многие после получения газеты с очередным продолжением романа сразу же вырезали страницы, на которых он был опубликован, чтобы подклеить их к предыдущим или переплести. Такие импровизированные книги ходили по рукам в женском кругу. Родившаяся в 1900 году дочь сапожника (департамент Воклюз) рассказывала: "Из газеты я вырезала и выплетала страницы с очередным продолжением романа. Подобные "книги" женщины затем передавали друг другу для чтения. Вечерами по субботам мужчины отправлялись в кафе, а к нам приходили женщины играть в карты. Начинался обмен самодельными изданиями с романами. Особенно охотно обменивались романами "Рокамболь" и "Разносчица хлеба".
Таким образом, женщины, которые, может быть, ни разу в жизни не купили ни одной книги, собирали свои собственные библиотеки из вырезанных страниц с текстами романов, которые затем обсуждались и передавались друг другу для чтения. И вот нынешние тупые сериалы - ничто иное как реинкарнация, спорю, не менее тупых романов с продолжением.